От типографии до нефтяных вышек: странная судьба великого редактора
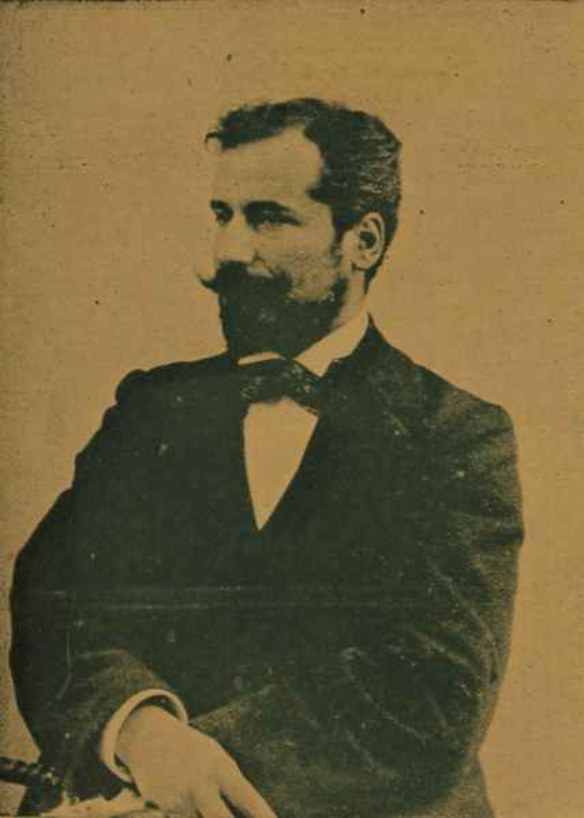
В истории литературы есть имена, которые гремят на протяжении веков, и есть те, что находятся в тени, формируя вкус эпохи. Левон Пашалян принадлежал ко второму типу, и именно поэтому его след оказался настолько глубоким. «Его называли добрым братом начинающих писателей и строгим стражем языка. Он приходил в редакции, как свежий ветер, а уходил, оставляя после себя огонь», — так говорили о нём современники. Что это был за огонь? И почему человек, проживший всего пятьдесят девять лет, успел изменить лицо литературной традиции?
Чтобы понять масштаб его влияния, нужно представить западноармянскую словесность конца XIX века. Романтическая традиция, унаследованная от предыдущих поколений, казалась современникам слишком возвышенной, оторванной от жгучих вопросов времени. Молодые писатели — «восьмидесятники» — требовали литературу, которая не боится грязи улиц и боли социальных язв. Им нужен был проводник, способный соединить художественное мастерство с острым общественным зрением.
Пашалян начинал в Ускюдаре — пригороде Константинополя, где смешивались запахи моря и восточных пряностей, где в кофейнях спорили о будущем империи, а в типографиях рождались тексты, способные изменить мир. В шестнадцать лет он уже держал в руках корректуру собственных произведений — редкий случай для того времени. Эта ранняя школа, от училища Берберян до первых поручений в редакции «Масиса», выковала особый тип редактора: человека, который умел слышать музыку слова и одновременно учитывать суровую прозу обстоятельств.
Но «музыка» у Пашаляна никогда не заслоняла реальности. Напротив, она помогала её обнажить. Когда молодой редактор пришёл в газету «Айреник», западноармянская литература переживала переломный момент. Вокруг Арпиара Арпиаряна формировалась школа реализма, и Пашалян оказался в самом её центре — не просто как помощник редактора, но как идейный вдохновитель движения за «народную словесность».
Что значила эта «народность»? Для Пашаляна литература была нравственной работой — способом разобрать «скрытые раны» общества, поговорить о тревогах ремесленника и землепашца, о пропасти между «верхами» и «низами». Он переводил Жюля Верна, изучал русских реалистов от Тургенева до Достоевского, и из всего этого выводил собственную формулу: литература обязана побуждать думать о состоянии общества.
В 1889 году Пашалян публикует хронику, которая прославит его имя и одновременно поставит под удар. «Աղան» (աղա — господин, хозяин) — так называлась эта работа, и она обнажала механизм местного. Молодой публицист показал, как «тёмные, корыстные» вожди наживаются на труде деревни, как хищническая система разрывает жизни простых людей. Текст читался запоем — и в столице, и в провинции.
Но за читательской любовью пришла ненависть. Те самые «аги», чьи преступления Пашалян разоблачил, требовали возмездия. Власти прислушивались к их жалобам, имя автора становилось предметом доносов. Так молодой публицист узнал на собственной шкуре, что даже слово имеет цену и может стоить свободы.
История распорядилась парадоксально: именно эта опасность спасла Пашаляна от более страшной участи. После демонстрации Кумкапы 1890 года и последующих преследований он покидает Константинополь. Сначала Париж, затем Лондон, потом возвращение в османскую столицу и снова работа в «Айренике». Газета растёт в тиражах, формирует вкус широкой аудитории, ведёт бой за чистоту языка — всё это под постоянным давлением цензуры и угроз.
Когда в 1895-1896 годах на армянские земли обрушивается резня, Пашалян снова уходит, и на этот раз навсегда. Именно поэтому в апреле 1915 года, когда по интеллигенции ударил конвейер арестов и казней, он остался жив: его уже не было в городе. Случайность? Провидение? Или инстинкт человека, научившегося читать знаки времени?
Лондонский период оказался двойным испытанием. С одной стороны, Пашалян вместе с Арпиаряном редактировал журнал «Март», а затем «Новая жизнь» — издание, которое стало точкой сборки интеллектуалов диаспоры. На его страницах появлялись сатиры Ерванда Отяна, мемуарные тексты Арпиаряна, политические фельетоны — всё то, что держало в тонусе армянскую мысль в изгнании.
С другой стороны, тяжёлая редакторская рутина и материальная нестабильность изматывали. В письмах того времени Пашалян признавался: «Как я выношу эту жизнь? Чувствую, что старею — и духом, и телом». А ведь ему было всего тридцать лет. Эти строки говорят не о простой усталости, а о цене труда, когда каждый номер журнала создаётся на пределе человеческих возможностей.
В 1903 году Пашалян совершает поступок, который озадачил современников. Он едет в Баку работать во французской нефтяной компании. Вскоре он становится её директором и почти два десятилетия живёт среди скважин, копоти и спешки буровых. «Горячая» редакционная жизнь сменяется «пыльной» конторой и командировками.
Многие говорили, что в Баку он «задыхался от дыма и сажи». Но продолжал читать, переводить, иногда переделывал ранние новеллы. Его «молчание» было не отказом от литературы, а вынужденной паузой в поисках стабильности.
Война застала его в пути. Как «турецкий подданный», он ездил по поручениям европейских фирм, с трудом пересекал границы, оказывался то в Петрограде, то в Лондоне, то на Средиземноморье. Позднее он опишет эти скитания в «Приключениях турецкого подданного во время большой войны» — как свидетельство человека, пережившего «большую историю» воочию.
В 1920 году Пашалян возвращается в Париж, а через четыре года по поручению благотворительных организаций едет в Ереван. В молодой Советской Армении идёт тяжёлая, но вдохновляющая стройка: хозяйство поднимается из руин, строятся деревни и больницы, открываются школы.
За этой простотой скрывается сложное понимание, что после Геноцида и войны у народа появился шанс на реальное будущее. Пашалян сознательно становится «человеком-мостом» между диаспорой и родиной. В Париже он работает в Комитете помощи Армении, в Союзе всеобщей благотворительности (AGBU), помогает собирать средства на больницы и школы.
Этим служением завершается его редакторская работа: в 1928-1932 годах он возглавляет двуязычный журнал «Le Foyer» («Оджах»), где публикует хроники о буднях парижской общины и культурной жизни Советской Армении. Его статьи по-прежнему отличает главная черта — кристальная ясность мысли.
Литературная слава «до-бакинского» времени никуда не исчезла. Хроники, очерки, критические статьи Пашаляна — сотни страниц — были разбросаны по газетам и журналам. Новеллы и рассказы переиздавались в Каире, Париже, Алеппо и Ереване.
Современники видели в нём человека, который успел изменить «климат» прозы, соединив точность наблюдения с моральной интонацией, газетную строку с художественной задачей. Арпиарян называл его «молодым, но зрелым умом», чей «вкус и знание языка» притягивали и ровесников, и старших. У него было редкое качество — видеть в тексте будущую книгу, в авторе — будущего мастера.
Когда в конце тридцатых мир снова окунулся во тьму, Пашалян жил в Париже. Потом эвакуация, режим Виши, внезапная смерть 1 февраля 1943 года. Незаметные похороны, которые никак не соответствовали масштабу его труда. Но, может быть, именно так и должен уходить человек, всю жизнь занимавшийся тем, что придавал форму чужим голосам?
Пашалян научил главному: работа важнее славы. Его наследие — несколько десятков текстов, разбросанных по газетам. Но именно так строится настоящая литература — по кирпичику и без фанфар. Пашалян показал, что настоящий реализм — это не копирование быта, а умение увидеть, как власть имущие ломают судьбы крестьян, как газетная заметка может изменить людей.
Источники:
Манукян, С. А. Левон Башалян: монография / С. А. Манукян; АН Армянской ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна; под ред. К. А. Даниеляна. — Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1969. — 266 с.
Անդրեասյան Թ. Նկարագրական պատկերները Լեւոն Բաշալյանի գեղարվեստական արձակում // Լինգվա. Linguistics and Philology. — 2024. — Т. 1(68). — Режим доступа: URL (дата обращения: 18.09.2025).




