«Самые большие предатели»: разбор фильма «Казённый дом» Альберта Мкртчяна
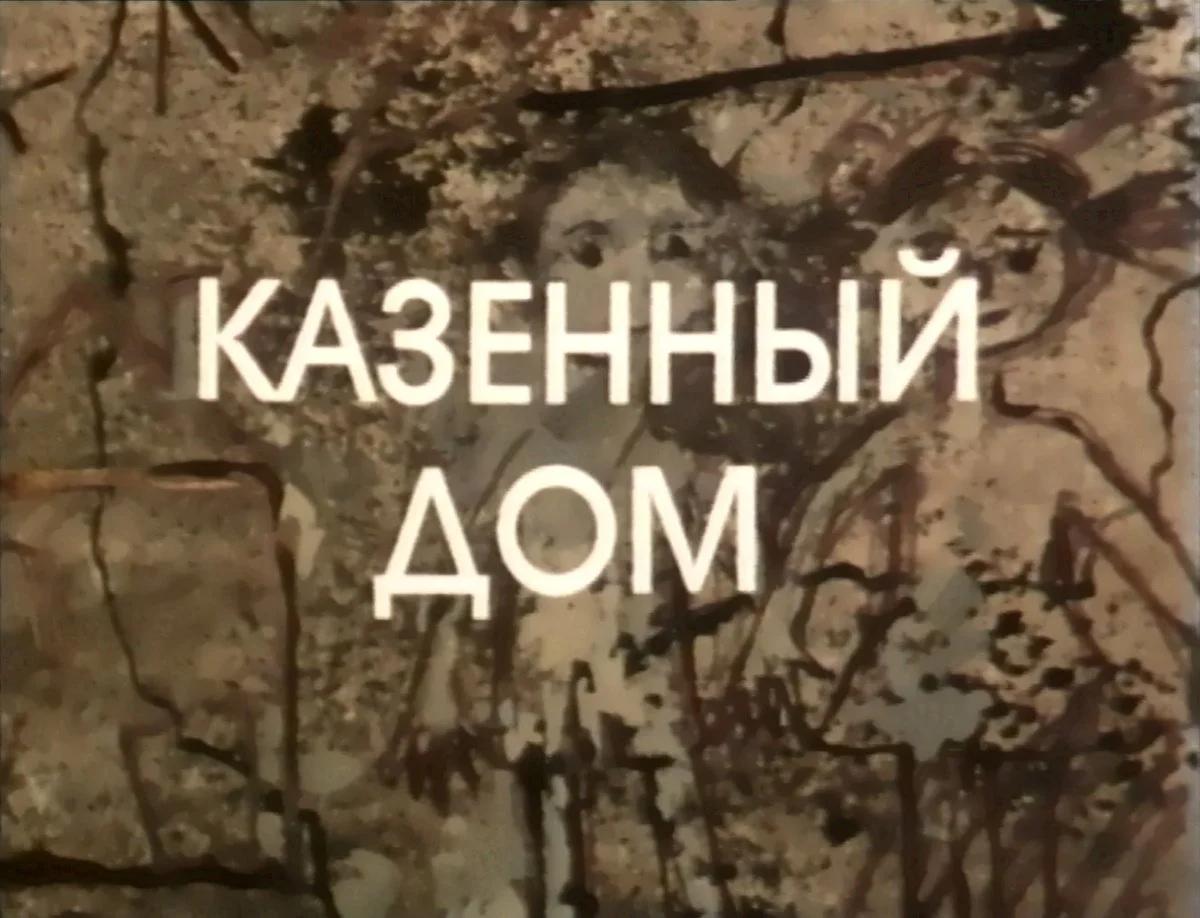
[Внимание: материал содержит спойлеры]
«Всем известно, как Феликс Эдмундыч любил детей! И благодаря его неустанным заботам количество детских домов в нашей стране значительно увеличилось! Ура!» — такой двусмысленный лозунг звучит в «Казённом доме» (1989) Альберта Мкртчяна в сцене открытия памятника «рыцарю революции Дзержинскому».
А двусмысленность такова: системе не плевать на детей, оставшихся без попечительства, потому хорошо, что детдомов становится больше. Или нет? Проблема в том, что существует необходимость в этих учреждениях, и она с годами не уменьшается. А ведь время-то не послевоенное. Почему так?!
Тут, конечно, стоит отметить, что фильм называется не «Детский дом». Это именно «Казённый дом». А вот увеличение числа оных едва ли можно счесть радостью.
Фильм Альберта Мкртчяна увидел свет в 1989 году, и трагедия, разворачивающаяся на экране, вроде бы тоже про то непростое перестроечное время. Только после просмотра не остаётся чувства горечи именно эпохальной. Вот совсем не думаешь, что виной всему сложный период. Есть ощущение беды вневременной, актуальной и сегодня. А от этого всё увиденное ещё горше.
Это довольно бескомпромиссное кино, суровое и лишённое сентиментальности. Впрочем, Альберт Саркисович не создаёт на экране монстров. Руководство образцового детдома обеспокоено репутационными вопросами заведения, что в общем-то нормально и обыденно. Директор, которую играет Галина Польских, не идеальная, но и не утрированно канцелярская. Обычная. Она заводит роман с подчинённым — и это не про её беспечность и сомнительный моральный облик, а про женское одиночество. У неё достаточно тёплые отношения с коллективом, значит, это не начальник-зверь. Она даже получает замечание от «вышестоящей» о неуместности внешнего вида (джинсовка — не по возрасту). Всё, как у людей.
Но пока взрослые живут в своей реальности, работают, занимаются «имиджем» организации и строят личную жизнь, детдомовцы — «выживают» в своей. Девчонки — не брезгуют проституцией. Мальчишки воруют, выпивают, курят и токсикоманят.
О судьбах героев их мы узнаём из диалогов, которые происходят в том числе и за распитием «бормотухи».
— Если бы я белым родился… меня бы мать в роддоме не оставила. Жил бы сейчас с ней. Так вот…
— На хрена ты ей сдался? Гулять бы мешал. А мне хоть чёрный, хоть белый, хоть серо-буро-малиновый в крапинку… Сиротский интернационализм! <…>
— А меня мама в одеялко и на порожек подкинула, записочку оставила. «Алёшей назвала сына». Ей не важно, что со мной будет. Важно, чтобы Алёшей назвали.
— Ребята, я иногда думаю, что мы хуже других. Но ведь это неправда, а? Мы ведь не хуже, не хуже других? Не хуже других, а?…
Трагическое происшествие — смерть мальчишки-мулата по имени Камаль от «химии» — становится катализатором, обнажающим глубокое безразличие системы и общества. Друзья Камаля, обнаружив его мёртвым в заброшке, где они «нюхали», скрывают тело погибшего под кирпичами, надеясь, что правда не всплывёт. Когда один из них проговаривается директору, та не спешит принять меры, правильные в этой ситуации. Посоветовавшись со своим начальством, она решает продолжить скрывать произошедшее.
— Так. Сегодня пойдёшь в милицию… и подашь в розыск. Они очень долго будут искать. Ты же знаешь нашу милицию... вот в прошлом году… как его фамилия? Фэ-фэ-фэ…
— Фетисов?
— Ну да, вроде этого. И сколько дней они искали?
— Да около года.
— Около года! А потом он сам к ним пришёл.
— А потом сам пришёл!
— А сколько они негра будут искать? Так… Главное, что… скоро у нас повышение. И награждение грамотами. Нам надо потянуть время. Главное, что мы с тобой ничего не знаем.
— Ничего!
— Викентия мы выгородим… Вот что. Твоя эта шпана не может где-нибудь… вякнуть случайно?
— Они сами боятся.
— Не скажи… Дети — это самые большие предатели.
— Ты знаешь, что я придумала?
— Ну?
— Определю я их в детприёмник. А когда всё утихнет… я их раскидаю по детским домам, а?
— Молодец! Очень хорошая мысль.
Здесь возникает закономерный вопрос: а кто здесь настоящий предатель?
Лишённые родительской заботы дети, понятно, что пусто́ты в собственном сердце никогда не восполнят. Но никто будто и не пытается скомпенсировать этот гуманитарный провал. Детдомовцы заклеймены, как хулиганы, наркоманы, отбросы. Зачем им пытаться быть иными, если взрослые уже всё решили за них? С кого им брать пример? Со своих родителей-алкоголиков или с воспитателей, давно ставших частью бездушного механизма?
На фоне всего этого бессердечия особенно важной становится другая история, оказывающаяся в центре сюжета — зарождающаяся дружба между мальчиком Юрой и новенькой Таней, у которой не получается влиться в бытие детдомовских девчонок.
— Тебя как зовут?
— Таня… Тебе не влетит?
— А чего это ты перед ней так распиналась?
— Не могу, когда меня запирают. Это с детства. Меня мама в шкаф прятала, а сама…
— Понятно. У моей тоже каждый месяц новый был. Я когда ушёл, она с пузом ходила. Теперь родила, небось.
— Так у тебя теперь брат или сестра есть?
— Да, поди, отказалась! Нафига ей эта обуза?
— Ты так зло говоришь… Мать всё-таки…
— Я б такую мать… Я от них сам ушёл! Её хахаль меня вусмерть бил. А она ему в угоду мне жрать не даёт. Мне здесь лучше. Ей-богу, лучше… Надо бы сходить посмотреть, как она там.
— А я здесь никак не привыкну. Домой сильно хочу. Мне маму жалко. Она когда выпьет, знаешь, какая добрая? Один раз долго держалась. Работать пошла. Занавески купили, плед, мне сапоги. А потом — всё пропила!
— Если девки еще издеваться будут, мне скажи.
— Ты иди, а то засекут.
— А ты? Ты спать хочешь? Иди ложись.
— А ты?
— Я здесь буду.
— Всю ночь?
— Я с тобой…
«А мне хоть чёрный, хоть белый, хоть серо-буро-малиновый в крапинку» и «Я с тобой» из диалогов, приведённых выше, хорошо иллюстрируют идею важности неравнодушия и милосердия, которая становится лейтмотивом фильма.
История дружбы Юры и Тани — как лучик света: словно бы начинает теплиться надежда на то, что ребята, например, сбегут вместе, а режиссёр оставит финал открытым и позволит нам верить в то, что у них всё может быть хорошо. Но безысходная атмосфера даёт нам понять, что хэппи-энд здесь невозможен. Да, они держатся друг друга и своих робких подростковых чувств, но за пределами детдома их встречает ещё более чудовищная реальность. А выстоять против системы два ребёнка не могут. В сказках — да, но не в реалистичной драме. И повторюсь, мы не можем обвинить Альберта Саркисовича в умышленном нагнетании. Он показывает нам очень среднестатистическую историю про очень среднестатистических людей. Оттого и ком в горле после просмотра: страшно не то, что это прецедент. Страшно, что это норма.
О режиссёре
Альберт Саркисович Мкртчян (при рождении Вараздат; 8 августа 1926 года, Ереван — 20 февраля 2007 года, Москва) — советский и российский режиссёр, сценарист, оставивший заметный след в кинематографе благодаря жанровому разнообразию и остросоциальной тематике.
Его кинематографический путь начался в Ереване, где он родился и в 1950 году окончил режиссёрский факультет Ереванского театрально-художественного института. После работы в Ереванском академическом театре имени Сундукяна, в конце 1950-х годов он переехал в Москву, где начал работать на киностудии «Мосфильм», сменив имя на Альберт.
Фильмография режиссёра демонстрирует широкий спектр жанров: от комедий и приключенческих лент до мелодрам. В 1973 году, совместно с Леонидом Поповым, он снял фильм «Земля Санникова» — экранизацию романа Владимира Обручева, ставшую настоящим хитом (более 41 миллиона зрителей в 1974 году). Среди других известных картин — один из первых российских фильмов ужасов — «Прикосновение» (1992).
Как рассказал нам член Гильдии кинорежиссёров России Иван Качалин, после «Прикосновения» Мкртчян планировал снять приключенческую комедию «Двое в саванне» (1995). Проект, для которого уже были проведены кинопробы в Африке, не был реализован из-за нехватки финансирования. Уникальные материалы экспедиции, включая пробы с африканскими актёрами, съёмки натуры и закадровый голос Мкртчяна, хранятся в архиве кинокомпании «Синефог». К сожалению, проект не получил поддержки Госкино и африканских партнёров.
С конца 1990-х годов Альберт Саркисович тяжело болел, что не позволило ему продолжить работу в кино. Он скончался 20 февраля 2007 года в Москве.
Альберт Мкртчян с призом кинофестиваля Giffoni за фильм «Казённый дом». Из архива кинокомпании «Синефог»
В 1989 году Альберт Мкртчян снял фильм «Казённый дом». Несмотря на скепсис коллег и предупреждения о том, что европейцы не любят мрачное кино, режиссёр отправил картину на фестиваль детского и подросткового кино Giffoni в 1991 году.
Результат превзошёл все ожидания: «Казённый дом» не просто получил Гран-при, за него единогласно проголосовали все члены жюри — 140 детей в возрасте от 14 до 16 лет. Эта победа подтвердила актуальность и пронзительность фильма, поднимающего сложные вопросы о детях, лишённых родительской заботы, и системе, неспособной обеспечить им достойную жизнь. «Казённый дом» стал важным высказыванием о социальных проблемах переломной эпохи и свидетельством режиссёрского таланта Альберта Мкртчяна.
14 августа в 19:00 в лектории Армянского музея состоится показ и обсуждение фильма «Казённый дом», а также премьера документалки о поездке Альберта Мкртчяна на фестиваль Giffoni. Оба фильма представит член Гильдии кинорежиссёров России Иван Качалин.














