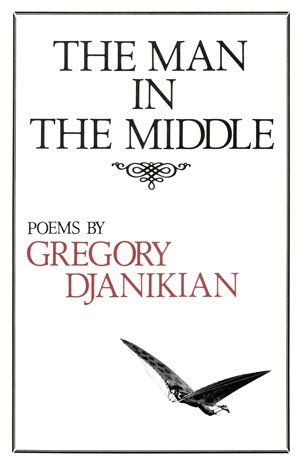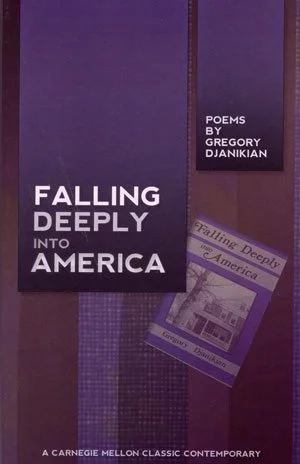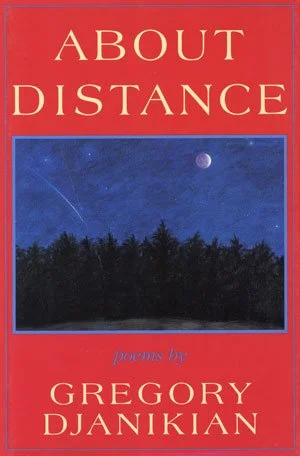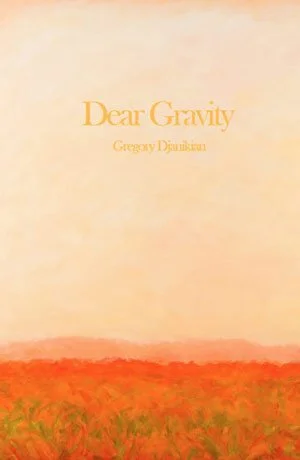Право на счастье в поэзии Грегори Джаникяна

История армяно-американского поэта Грегори Джаникяна ломает привычный стереотип о литературе изгнания. Его семья потеряла бизнес и дом в Александрии во время Суэцкого кризиса, была вынуждена эмигрировать и начать всё с нуля в США. Казалось бы, идеальная почва для фиксации на травме и бесконечной тоске, но Джаникян выбрал другой путь. Он культивирует в своём творчестве чувство, которое сам называет «плавучестью» — способность оставаться на поверхности и радоваться самому факту бытия.
Грегори Джаникян. Источник: социальные сети поэта
Грегори Джаникян родился в Александрии в армянской семье. Во время Суэцкого кризиса бизнес отца был национализирован, и семья, потерявшая всё, была вынуждена покинуть Египет. Они обосновались в Уильямспорте (США, штат Пенсильвания), где и прошло детство будущего поэта. В интервью Энн Ван Бюрен для Katonah Poetry Series он рассказывает:
«Я родился в Александрии, в Египте, и много писал об этом. Я прожил там всего восемь лет — и кто знает, три года из этих восьми я был в неосознанном возрасте, но там случались вещи, которые остались со мной на очень долгое время. Не то чтобы я сейчас считал Александрию своим домом. Я вернулся туда в 1975 году и почувствовал себя там чужаком, отчасти потому, что забыл арабский. Не имея возможности говорить, писать и читать по-арабски, я не чувствовал себя частью Александрии, как раньше. Я чувствовал себя чужим. Полагаю, язык очень важен для восприятия дома. Тем не менее, те переживания остаются со мной, и мне нравится черпать из них материал».
Отвечая на вопрос о том, что же такое «дом» и где его искать, он говорит:
«Я уверен, что понятие дома может возникать в самых разных местах, при условии, что опыт, полученный там, становится для вас священным. Думаю, это главное и решающее условие».
Грегори Джаникян — выпускник писательской программы Сиракузского университета. На протяжении многих лет был директором программы литературного мастерства (Creative Writing) в Пенсильванском университете, где сам когда-то получил степень бакалавра.
Он автор восьми поэтических сборников: The Man In The Middle («Человек посередине»), Falling Deeply Into America («Погружаясь в Америку»), About Distance («О расстоянии»), Years Later («Годы спустя»), So I Will Till The Ground («Так буду возделывать землю»), Dear Gravity («Дорогая гравитация»), Sojourners of the In-Between («Скитальцы межмирья») и Nostalgia For The Future («Ностальгия по будущему»). Поэт был удостоен стипендии Национального фонда искусств, двух наград журнала Poetry (премии Юнис Титдженс и премии «Друзья литературы»), Литературной премии «Анаит» от Армянского центра Колумбийского университета и других.
Вспоминая своё детство, он говорит, что был слишком мал, чтобы осознавать все сложности, через которые пришлось пройти его семье, и признаётся, что ему очень повезло:
«Мне очень повезло, потому что, когда я приехал в эту страну — может быть, отсюда и берутся этот юмор и жизнелюбие — я просто полюбил её! Мне нравилось быть там, где я оказался. Мне нравилась эта свобода, не в общем смысле, а осязаемо: возможность просто выйти из дома и кататься на велосипеде по улицам Уильямспорта. Раньше я не мог этого делать. <…>
У меня, безусловно, случались и невзгоды, но я чувствую себя счастливчиком, будучи тем, кто я есть, и проживая ту жизнь, которая у меня была. Я не могу сказать, что какой-то конкретный опыт оказал на меня такое гнетущее влияние, что я впал в уныние или отчаяние. Это не значит, что я не могу сопереживать тем, с кем это произошло. Это не значит, что я не злюсь на несправедливость, бесчеловечность и катаклизмы, которые вижу. <…>
Кто-то скажет, что я немного наивен! Но знаете, меня всегда поражала сама идея быть живым. Это всегда заставляло меня удивляться — чистое ощущение «я есть», присутствие бытия в этом мире, который вбросил нас в существование. Я не могу этого понять, и именно поэтому я пишу стихи — чтобы попытаться понять. Я всегда чувствовал это изумление. Думаю, это проступает в моих стихах: понятие чуда, которым является жизнь, присутствие бытия здесь и сейчас».
Источник фото: социальные сети Грегори Джаникяна
Этот баланс прослеживается во всём его творчестве. Если в ранних стихах он часто обращался к сюжетным зарисовкам и юмору, описывая трудности языковой адаптации, то с годами его поэзия ушла в более глубокое, медитативное русло. В седьмом сборнике Sojourners of the In-Between Джаникян отходит от повествовательности, пытаясь осмыслить собственную смертность. На помощь приходит физика: поэт находит утешение в мысли о том, что все мы состоим из атомов, которые после смерти не исчезают, а рассеиваются и становятся частью чего-то нового. Эта взаимосвязь всего сущего — от возможности дышать тем же кислородом, которым когда-то дышал, например, Цезарь, до превращения в часть природы — становится для него источником спокойствия и примирения с неизбежностью смерти.
Однако обретение этого мудрого, спокойного голоса потребовало от Джаникяна десятилетий работы и преодоления культурных барьеров. Его литературный старт был осложнён тем самым багажом прошлого, который многие считают преимуществом. Воспитанный на поэзии Теннисона, Арнольда и французских классиков, которых читала его мать, юный Грегори писал витиеватые стихи на тяжеловесном, архаичном языке XIX века. Переломным моментом стала встреча с Джеральдом Майерсом, молодым преподавателем, который взял на себя труд переучить талантливого студента.
Майерс буквально разрушал представления Джаникяна о том, как должна звучать поэзия. Во время субботних завтраков он объяснял, что стихи не обязаны звучать пафосно, чтобы быть искусством, и знакомил ученика с творчеством современных авторов вроде Уильяма Стаффорда, Роберта Блая и Сильвии Плат. Обучение не ограничивалось теорией: наставник давал жёсткие формальные упражнения, например, требуя писать пятистопным ямбом с намеренными заменами стоп на спондей или анапест в конкретных местах. Эта техническая муштра позволила Джаникяну овладеть формой и найти собственный голос, свободный от викторианской тяжести.
Позже важную роль в его судьбе сыграли и другие наставники. Дэниел Хоффман, известный поэт, ставший впоследствии другом Джаникяна, был для него живым доказательством того, что литература — это не музейный экспонат, а живой процесс, творимый реальными людьми, ходящими по университетским коридорам. А Филип Бут научил его сдержанности и точности. Этот опыт ученичества сформировал и самого Джаникяна как педагога. Долгие годы он возглавлял программу писательского мастерства в Пенсильванском университете, помогая молодым авторам найти свой путь. Благодарность студентов оказалась столь велика, что один из его учеников, Питер Лаберж, основал стипендиальную программу имени Грегори Джаникяна, которая ежегодно поддерживает шестерых начинающих поэтов, давая им тот самый толчок, который когда-то получил сам мэтр.
Всё творчество и преподавательская деятельность Грегори Джаникяна сводятся к одной простой, но важной цели — созданию связи между людьми. Цитируя Дональда Холла, он называет поэзию разговором «одного внутреннего человека с другим внутренним человеком». Для Джаникяна текст — это не просто набор метафор, а самая живая и вибрирующая нить, способная соединить автора и читателя через пространство и время. Он надеется, что, читая его работы — будь то юмористические зарисовки о трудностях перевода или философские размышления об атомах, — люди смогут почувствовать ту же радость и удивление перед чудом жизни, которые он сам испытывал в момент написания. В мире, полном тревог, он оставляет читателю право на счастье и ощущение причастности к чему-то большему, чем просто биологическое существование.
Несколько стихотворений Грегори Джаникяна
Когда я впервые увидел снег
Тэрритаун, Нью-Йорк
По радио Бинг Кросби выводил White Christmas,
мы жили в доме у тётки, ждали газет, отец искал работу.
Накануне вечером мы наряжали ёлку,
пальцы липли от смолы, и впервые в жизни
хвойный дух преследовал меня повсюду.
Анаис, моя кузина, у себя наверху
слушала «Danny and the Juniors».
Хайго резался в «Монополию» с сестрой Люси,
а Баззи, соседский мальчишка, не сводил с неё глаз,
и слышался стук игральных костей, шелест
карточек: «Бордуок», «Парк-Плейс», «Марвин-Гарденс».
На ёлке алели банты.
Снег шёл всю ночь.
Пряжки на моих ботинках звякали, как бубенцы,
когда я протопал к двери и вышел
на серые доски крыльца, припудренные белым.
Мир был безупречен и нов,
даже деревья сменили цвет,
и, коснувшись снега на перилах,
я не понял, что обожгло меня — лёд или пламя.
Я слышал: «I’m dreaming…»
Я слышал: «At the hop, hop, hop… oh, baby».
Я слышал: «Би-энд-О»*, и в моём воображении поезд
свистел, проносясь сквозь великие равнины.
И я сходил с крыльца,
я падал глубоко в Америку.
* B & O (Baltimore and Ohio Railroad) — железная дорога, одна из клеток игрового поля в классической версии «Монополии».
После первого снега
Как будто во сне,
ты вдруг идешь
сквозь застывший край
снега, луны и деревьев,
холодный и неуютный,
бредёшь вслепую,
словно от этого зависит жизнь,
чтобы укрыться где-то на дальнем краю поля,
добраться до места, едва знакомого
или, быть может, забытого,
и вдруг понимаешь, что смотришь вниз,
не видя ничего,
кроме гипнотического, ровного ритма шагов
и заснеженных ботинок,
ступающих лишь в снег,
и, намечая следующий
поворот, ты начинаешь осознавать, что только
твоё движение
делает тебя различимым
в этой тишине,
в этой расстановке частей, где каждая неподвижна
сама по себе, замкнута,
где рушится движение,
относительность, пропорции, порядок,
и когда разум оставляет
грацию и плавность хода,
твои движения становятся неровными
и некрасивыми,
ты коченеешь, слабеешь,
и постепенно,
чувствуя, как собственный вес
шатается
на твоих ногах, ты начинаешь
сдаваться, и перед последним поворотом,
у группы голых, бездумных
деревьев, замираешь,
позволяя сопротивлению покинуть тебя,
и пока твой разум тянется к тому простору,
откуда ты мог прийти,
снег начинает накрывать тебя,
и ты становишься частью этой белизны
и этих деревьев,
но всё же совершенно отдельным и неподвижным,
как будто во сне,
словно ты никогда не видел этого места —
снега, луны, деревьев,
будто ничто здесь не твоё,
даже
тихий звук
собственного дыхания.
Армянская пастораль (1915)
«Память бесполезна, если никто из нас
не помнит об одном и том же».
— Брюс Мёрфи
Если бы Ануш прижимала к себе дитя,
глядя, как овец, точно людей,
увозят на бойню,
и Арменак в тёмной жилетке и брюках
ковылял босиком по деревенской площади
к изрытой пулями стене,
и Ашот в тюремной камере
считал побеги петрушки,
что сейчас, должно быть, всходят в его саду,
если бы Аракси, тонкая, как лезвие,
у обочины грезила о белой горе,
наливающейся красным в закатном зареве,
если бы Андраник, отказавшийся идти,
был подкован, как конь,
и привязан на собственном пастбище,
и Азнив стала кормилицей
для целого батальона ртов,
а её младенец лежал с перерезанным горлом в соломе, —
сколько же это должно продолжаться,
начинаясь с «А» и захлёстывая
все алфавиты мира,
прежде чем мать, сестра, отец и дитя
обретут одни черты на любом наречии
и станут плотью единого языка?
Дом вещей миссис Кальдеры
Вы сидите на кухне у миссис Кальдеры,
цедите стакан лимонада
и стараетесь не слишком коситься
на коробку с пластиковыми колибри у вас за спиной,
на поднос с беззубыми вилками под локтём.
Вы наслышаны о задней комнате,
куда не ступала нога человека
и где всё, что туда попадает, остаётся навек:
дверцы холодильников, перегоревшие спирали,
ножи газонокосилок, молочные бутылки, поршни, шестерни.
«Никогда не знаешь, — говорит она, роясь
в кедровом ларце с рецептами, —
когда и что может пригодиться».
На столе — вазочка с карандашными грифелями,
миска, полная крошечных колёс и осей.
Наверху, в бывших детских спальнях,
где двери уже не закрыть,
стопки журналов пухнут и множатся,
там снегоступы и абажуры,
панцирные сетки и кинескопы,
и коробки, коробки, коробки сплошного несократимого!
Вам видится заголовок в «Вестнике Буквалиста»:
«Дом пошёл ко дну под тяжестью прошлого».
Но миссис Кальдера печёт печенье,
мурлычет песенку из детства,
руки её тяжелы и сильны,
они держали младенцев, мужа,
детали тракторов и бензобаки —
чему они только не нашли места?
Смеркается, ты засиделся.
Пошевелись — и кажется, что равновесие будет нарушено,
здесь места хватает ровно для твоего тела.
«Побудь ещё немного», — говорит миссис Кальдера,
и ты впервые в жизни чувствуешь себя настолько ценным.
Перевела Анна Владиславская